Тресты, которые лопнули: что ждет институт банкротства в России?
Экономика | В России
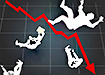
За последние десять лет больше 1,5 млн россиян объявили себя банкротами, и с каждым годом таких людей становится только больше. В 2024-м банкротами признаны свыше 430 тыс. человек — на 23,6% больше, чем годом ранее. При этом 96,7% заявлений подают сами должники, а это говорит о том, насколько востребованной стала такая возможность. Однако легко списывать долги, возможно, скоро перестанут: в Госдуму внесли пакет поправок, которые меняют прежние правила. Подробнее — в материале Накануне.RU.
Законодатели отреагировали на обрушившуюся волну банкротств, которая накрыла страну. Новые поправки к закону “О банкротстве” должны не только сократить число разорений и сберечь рабочие места, но и дать людям в долгах больше способов уладить проблемы до суда. Инициатива утверждает механизмы внесудебного решения долговых споров и продлевает сроки, чтобы компания могла поправить свои дела.
На этом фоне особенно заметно расхождение в цифрах: в первом полугодии 2025 года около 260 тыс. человек подали в суд, чтобы их признали банкротами, а внесудебную бесплатную процедуру выбрали чуть больше 30 тыс. Причина — в строгих условиях: для внесудебного банкротства общая сумма долгов не должна превышать 1 млн руб., а заявитель обязан подходить под целый ряд социальных критериев.
Сенатор Совета Федерации Айрат Гибатдинов видит две группы должников: одни действительно попали в беду, а другие превратили банкротство в образ жизни. Есть и такая проблема: человек уже прибегает к этой процедуре не в первый раз. Он обанкротился, а через пять лет снова набрал долгов — и имеет право снова объявить себя банкротом. Айрат Гибатдинов настаивает: нужно помогать тем, кто в беде, но пресекать любые попытки сделать из банкротства финансовый инструмент.
Эксперт по банкротству Станислав Свириденко считает главной причиной проблем финансовую неграмотность.
"Инфляция съедает доходы, а люди без базовых знаний не замечают тревожных сигналов, — объясняет он. — Многие заемщики просто не учитывают инфляцию, когда планируют бюджет. Проходит три года — и платить уже нечем. Инфляция давно уничтожила их финансовый запас, но люди этого не видят".
Чтобы пояснить разницу в подходах, эксперт обращается к Европе, но предостерегает от прямых сравнений: "Там другая экономика, иные кредитные ставки. Человек в той развитой экономике полностью прозрачен для налоговой системы, а банковские ставки не включают риски невозврата. У нас же пока все устроено иначе".
При этом Свириденко видит и положительную сторону: закон о банкротстве "помогает вернуть людей из теневой зоны в банковскую систему". Эксперт подтверждает это цифрами: по его данным, в первом полугодии 2025 года число заявлений о банкротстве выросло на 36%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Международный налоговый юрист, член Палаты налоговых консультантов и финансовый эксперт Кристина Поливанова указывает на главную проблему малого и среднего бизнеса: в компаниях нет налаженных механизмов, которые помогли бы избежать тяжелых последствий, вплоть до банкротства. "Предприниматели не выстраивают внутрифирменные процедуры, которые страхуют от таких рисков, включая неплатежеспособность", — объясняет она.
По словам Поливановой, к банкротству чаще всего ведут операционные риски и отсутствие финансового планирования. Предприниматели не используют доступные инструменты, полагая, что это удел крупного бизнеса. При этом эксперт отмечает и обнадеживающую динамику: в первом квартале 2025 года число банкротств юридических лиц сократилось на 31,6%.

Эксперты обсуждают новый закон о банкротстве. Кристина Поливанова одобряет введение санации — процедуры по оздоровлению бизнеса — но сомневается, кто должен ею руководить. "По закону, это должен быть арбитражный управляющий. Но его главная задача — исполнять решения, а не восстанавливать компанию", — говорит она.
Поливанова считает, что для этого нужны специалисты, которые разбираются в конкретном бизнесе. Второй спорный вопрос — сроки. На санацию отводят 18 месяцев. Но только чтобы разобраться в делах фирмы, нужно месяцев шесть. Этого времени, по ее мнению, может не хватить, чтобы по-настоящему спасти предприятие.
Станислав Свириденко поясняет, во что обходится гражданам банкротство. "Банкротство бывает двух видов, — говорит он. — Внесудебное — совершенно бесплатное".
Однако этот путь имеет серьезные ограничения — по сумме долга и статусу заявителя. Судебная процедура стоит в среднем 150 тыс. руб. "Люди годами живут в серой зоне. Они уже все пережили и перестрадали", — описывает типичного клиента Свириденко. Для них банкротство становится спасением — возможностью вернуться к нормальной жизни.
Эксперт предупреждает о главном риске внесудебной процедуры: "Основная опасность в том, что люди пытаются схитрить — не указывают всех кредиторов. А любой неуказанный кредитор может потребовать перевести дело из внесудебного порядка в судебный".
Что касается бизнеса, то здесь, по словам Кристины Поливановой, все сложнее и дороже: "Для юридических лиц это только платная история. Порог от 300 тыс. Госпошлины изменились в сентябре 2024 года и из 6 тыс. переросли сразу скачком в 100 тыс. руб. Процедура по банкротству идет безумное количество времени, в совокупности порядка от года, полутора и до бесконечности. Минимальный порог — от полмиллиона и до бесконечности".
Она объясняет, что высокая стоимость и длительность часто заставляют кредиторов задуматься о целесообразности такого шага.
Отдельный разговор — о самозапретах на кредиты, которыми, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, воспользовались почти 17 млн россиян. Кристина Поливанова, сама установившая такой запрет, считает его полезным инструментом. "Самозапрет — действительно хорошая вещь, которая тебя может остановить, — делится она личным опытом. — Я сама поставила себе самозапрет. В какой-то момент захотела воспользоваться кредитом, забыв, что установлен самозапрет. Получила отказ, и в моменте это охладило меня".
По ее словам, этот механизм помогает не только защититься от мошенников, но и обуздать собственные импульсивные порывы. "Ты можешь подумать по-другому, а как сделать так, чтобы не брать кредит", — заключает эксперт.
Российский институт банкротства ищет равновесие — как защитить того, кто дал в долг, и не дать пропасть тому, кто попал в беду. Законодатели ужесточают правила, пресекая злоупотребления, и одновременно открывают новые пути для решения споров без суда. Но все эти усилия рискуют остаться полумерами, если не растить в людях и предпринимателях финансовую грамотность.
Кристина Поливанова нашла для этого точный и живой образ: люди должны считать бюджет "так же, как девушки считают калории" — ежедневно, честно и без уловок. Но никакие запреты и даже безупречное ведение бюджета не помогут, если экономическая ситуация системно ведет к долгам. Банкротство не может быть ни рядовым событием, ни расчетливой схемой — лишь чрезвычайной мерой, последним выходом. Подлинное решение долговой проблемы лежит в иной плоскости: в дешевых кредитах для предпринимателей, в зарплатах, которые позволяют жить, а не выживать, и — в конечном счете — в экономике, где не нужно залезать в долги для базовых потребностей.
